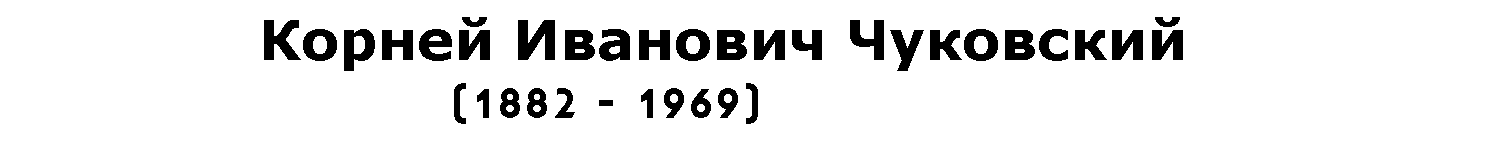
|
Запчасти для трубонарезных станков запчасти для трубообрабатывающих станков. Запчасти для специальных станков. Станки предназначены для обработки труб и деталей к ним, включая нарезание резьбы в условиях единичного и мелкосерийного производства.
|
Ах, не трогайте меня: Обожгу и без огня!Отгадка, конечно, крапива. Правильно отгадывали эту загадку лишь деревенские дети, а городские говорили почему-то: утюг.
И вот загадка о грузовике, перевозившем наши вещи на дачу. Я был вынужден взгромоздиться на груду вещей и ехать по ухабистой дороге, держа в руках лампу и зеркало. Доехал до места измученный, зато сочинил вот такую загадку:
Была телега у меня, Да только не было коня. И вдруг она заржала, Заржала — побежала. Глядите, побежала телега без коня!Многие мои загадки давно напечатаны. Но есть среди них и такие, которые я до сих пор не решаюсь включить в свои детские книжки. Например, эта, где изображен головастик, жаждущий превратиться в лягушку:
Без рук, без ног голова плыла, Голова плыла, приговаривала: "Эх, ноги бы мне, я бы скок да скок, Поскакала бы я на лужок-бережок!"- "Ну, вот тебе ноги, Беги, голова, Скачи по дороге. Кричи КВА-КВА".Загадка как будто не хуже других, но горе в том, что ни один взрослый, кому я загадывал эту загадку, не мог отгадать ее. Дети не могли и подавно. Поэтому я и не дерзаю печатать ее на страницах своего "Чудо-дерева".
На днях мне привелось сызнова прочитать этот сборник, взглянуть на него свежими глазами. И когда в конце книги я дошел до загадок, с удивлением увидел, что есть в этих загадках одно характерное свойство, какого я не замечал до сих пор.
Оказывается, даже неодушевленные вещи определяются здесь не столько своими качествами, сколько своими делами, поступками. Обожгу, заржала, побежала, поскакала, беги, скачи, кричи и т. п. — все это действия, и притом энергичные, повышенно эмоциональные, резкие. Такова, например, загадка про бегущий пароход:
Паровоз Без колес! Вот так чудо-паровоз! Не с ума ли он сошел?- Прямо по морю потел!На четыре строки три восклицательных знака и один вопросительный. Каждая строка требует нового жеста. Оказывается, обращаясь к детям со своими загадками, я инстинктивно избегал прилагательных, определяющих качества, признаки и приметы вещей, и столь же инстинктивно тянулся к глаголам. Мне было бы скучно загадывать такие загадки, где репа определяется тем, что она "желта и хвостата", хлебная мякоть — тем, что она "комковата и ноздревата", а рябина — тем, что она "кругла и красна". Таких загадок у меня нет ни одной. Не суммой типических признаков характеризуется предмет в моих загадках, но чаще всего динамикой движений и действий.
Такова, например, загадка о нашем домашнем ковре, на котором любили играть мои дети, перед тем как отправиться спать:
Лежу я у вас под ногами, Топчите меня сапогами, А утром во двор Унесите меня И бейте меня, Колотите меня, Чтоб дети могли Поваляться на мне, Барахтаться И кувыркаться на мне.Топчите, унесите, бейте, колотите, поваляться, кувыркаться, барахтаться — семь энергичных глаголов подряд и ни одного — из качественных определений ковра.
Конечно, я привожу крайние случаи. Чаще всего в моих загадках (как и в фольклоре) перечисления качественных определений предмета совмещаются с изображением его типических поступков и действий. Такова загадка о яйце и цыпленке:
Был белый дом, Чудесный дом, И что-то застучало в нем. И он разбился, и оттуда Живое выскочило чудо — Такое теплое, такое Пушистое и золотое.Но в большинстве загадок все же преобладает динамика.
Это я разглядел лишь теперь, перечитывая на старости лет (не в последний ли раз?) свои давние детские книги, служившие верно и преданно четырем или пяти поколениям детей.
Тот мир, который я демонстрирую перед малым ребенком, почти никогда не пребывает в покое. Чаще всего и люди, и звери, и вещи сломя голову бегут из страницы в страницу к приключениям, битвам и подвигам. В "Айболите" — путешествие на волке, на ките, на орле. В "Бармалее" — чехарда со слонами, боевая схватка с Каракулой. В "Тараканище" — длинный кортеж едущих, летящих и скачущих путников:
Поэтому, изображая в первых строках "Тараканища" мчащихся друг за другом животных, я не обременяю ребенка ненужными ему сведениями, каковы они, эти зайцы, раки, медведи, коты, комары, которые проносятся мимо, — какой у них нрав и какая наружность. Детскому уму эти сведения еще не нужны.
Действий, приключений, событий, молниеносно следующих одно за другим, — вот чего ждет ребенок в первые шесть-семь лет своей жизни. Герои "Крокодила" то сражаются, то убегают из плена, то ездят верхом на пантерах, то попадают в лапы к осатанелым гориллам, то пляшут вокруг праздничной елки — одно приключение сменяется десятком других. И в "Бармалее" и в "Краденом солнце" такая же непрерывная цепь приключений. И в "Бибигоне" и "Мухе" тоже. *
Муха-Цокотуха с беззаботным радушием угощала своих щедрых гостей, приносивших ей богатые дары, и вдруг попала в когти к пауку, который сразу же стал мучить ее, — неужели об этом катастрофическом случае можно повествовать тем же голосом, каким я говорил об ее легкомысленном пиршестве?
Конечно, нет. Здесь зазвучал для меня другой музыкальный мотив, соответствующий наступившему бедствию и резко отличающийся от прежних мажорно-ликующих ритмов. Хорей сменился скорбным анапестом:
Нет, весь ритмический строй поэмы изменился мгновенно, и речь злополучной Мухи зазвучала отчаянным воплем:
Не прошло и минуты, как Муха опять стала счастлива. Ее спас самоотверженный герой. И, естественно, грустная ритмика плача тотчас же сменилась — не могла не смениться — ритмикой безоглядного счастья. Началась неистовая пляска, причем каждый опять-таки пляшет по-своему, в соответствии со своей комплекцией и общественной ролью, — отсюда многочисленные вариации ритмов. Вот музыкальная фактура стиха, изображающего пляску солидных и грузных жуков.
Вот эта-то переменчивость ритмической фактуры стиха и была тем нововведением, тем новшеством, которое я ввел в свою работу над детскими сказками. Старинные русские сказки, хотя бы такие длинные, как "Конек-горбунок", от первой строки до последней звучали одним-единственным ритмом, ни разу не нарушая заранее установленной схемы. О чем бы ни повествовалось в "Коньке-горбунке" — о путешествии на небо, или о расправе с царем, или о чудо-деревне, расположенной на спине у кита, — обо всем этом говорилось одним и тем же монотонным голосом, неторопливым и ровным.
Причина моего бесплодия ясна. Всякая искренняя детская сказка всегда бывает рождена оптимизмом. Ее живит благодатная детская вера в победу добра над злом. Этой веры мне в то время не хватало.
Но вот однажды на даче под Лугой я забрел далеко от дома и в незнакомой глуши провел часа три с детворой, которая копошилась у лесного ручья. День был безветренный, жаркий. Мы лепили из глины человечков и зайцев, бросали в воду еловые шишки, ходили куда-то дразнить индюка и расстались лишь вечером, когда грозные родители разыскали детей и с упреками увели их домой.
На душе у меня стало легко. Я бодро зашагал переулками среди огородов и дач. В те годы я каждое лето до глубокой осени ходил босиком. И теперь мне было особенно приятно шагать по мягкой и теплой пыли, еще не остывшей после горячего дня. Не огорчало меня даже то, что прохожие смотрели на меня с омерзением, ибо дети, увлеченные лепкой из глины, усердно вытирали загрязненные руки о мои холщовые штаны, которые из-за этого стали пятнистыми и так отяжелели, что их приходилось поддерживать. И все же я чувствовал себя превосходно. Эта трехчасовая свобода от взрослых забот и тревог, это приобщение к заразительному детскому счастью, эта милая пыль под босыми ногами, это вечереющее доброе небо — все это пробудило во мне давно забытое упоение жизнью, и я, как был в измазанных штанах, взбежал к себе в комнату и в какой-нибудь час набросал те стихи, которые с позапрошлого лета безуспешно пытался написать. То музыкальное чувство, которого все это время я был совершенно лишен и напряженно пытался в себе возродить, вдруг до того обострило мой слух, что я ощутил и попытался передать на бумаге ритмическим звучанием стиха движение каждой даже самой крохотной вещи, пробегающей у меня по странице.
Передо мной внезапно возник каскад взбунтовавшихся, ошалелых вещей, вырвавшихся на волю из долгого плена, — великое множество вилок, стаканов, чайников, ведер, корыт, утюгов и ножей, в панике бегущих друг за дружкой. Причем во время этого отчаянно быстрого бегства каждая тарелка зазвучала совершенно иначе, чем, скажем, сковорода или чашка. Бойкая и легковесная кастрюля пронеслась лихим четырехстопным хореем мимо отставшего от нее утюга.
У чайника другая "походка"- шумная, суетливая и дробная. В ней мне послышался шестистопный хорей:
Вся эта сюита о каскаде вещей была написана экспромтом, в какой-нибудь час или меньше. Зато продолжение "Федорина горя" далось мне ценою кропотливой и долгой работы, о которой не стану сейчас говорить, так как тороплюсь сделать вывод из того, что сказано раньше *.
* Статья не закончена. — Ред.
Внимательно вглядевшись в эти книги, я подметил, что не только в загадках, но и в большинстве моих сказок — непрерывные вихри движений и действий. В "Мойдодыре" уже на первых страницах:
Все вертится,
Все кружится
И несется кувырком.
Вообще я почти никогда не изображаю предметов в их статике.
Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперед.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле...
Едут и смеются,
Пряники жуют.
И такими быстрыми темпами движется вся эта чудная вереница, что не успеешь вглядеться в одного проезжающего, как перед тобой другой. Эти быстрые темпы вполне соответствуют умственным потребностям малых детей. Ведь ребенка в начале его бытия меньше всего интересуют характерные приметы вещей. Не оттого ли его собственная речь в раннем возрасте так небогата эпитетами? Это, я уверен, объясняется тем, что каждый эпитет (за исключением очень немногих) есть результат более или менее длительного ознакомления с вещью, вглядывания в нее, размышлений о ней, — то есть такой интеллектуальной работы, которая под силу лишь более позднему возрасту.
* "Крокодил"- моя первая сказка, сочиненная еще в 1916 году. В нее (во вторую ее часть) я по неопытности ввел длиннейший монолог Крокодила о тех страданиях, которые испытывают звери, заключенные в железные клетки зверинцев. При новом издании сказки я хотел было заменить этот монолог кратким восьмистишием, излагающим тот же сюжет, но редакторы воспротивились этой замене. По их словам, уже создалась традиция, которую нельзя нарушить... Все же я считаю этот монолог своей ошибкой.
Если я в своем воображении, как и подобает природному сказочнику, переживаю всем существом, всеми нервами каждое из тех действий, приключений, событий, о которых мне случается писать, я невольно, нисколько о том не заботясь, нахожу для каждого из этих эпизодов особую звуковую окраску, особый музыкальный напев.
А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он мухе веревками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у нее выпивает.
Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.
Дико было бы, если бы этот горестный случай был описан тем же плясовым и беспечным хореем, каким я только что описывал праздник.
"ДорогИе гости, помогИте!
Паука-злодея зарубИте!
И кормИла я вас,
И поИла я вас,
Не покИньте меня
В мой последний час!"
Этот вопль, как я вижу теперь, пронизан от первой строки до последней единственным звуком И, трагическим звуком, издаваемым мухами, когда их терзает паук. В пяти строках — шесть слов с ударением на И.
А жуки рогатые,
Мужики богатые,
Шапочками машут,
С бабочками пляшут.
И совсем по-другому звучит ухарская пляска удалого деревенского батрака-муравья:
Муравей, Муравей
Не жалеет лаптей —
С Муравьихою подпрыгивает
И букашечкам подмигивает:
"Вы, букашечки,
Вы, милашечки,
Тара-тара-тара-тара-таракашечки!"
Изумительный детский слух к музыкальному звучанию стиха, если только он не загублен скудоумными взрослыми, легко схватывает все эти вариации ритмов, которые, я надеюсь, в значительной мере способствуют стиховому развитию детей.
Повторяю. Далеко не всегда мне выпадало веселое счастье: писать стихи для маленьких детей. Тянулись месяцы, а порою и годы, когда в качестве детского автора я чувствовал себя жалкой бездарностью, способной вымучивать из вялого мозга одни лишь постыдно корявые вирши. Досаднее всего было то, что всякие прочие жанры в это самое время давались мне без всяких усилий. Я писал и этюды по истории словесности, и мемуарные очерки, и критические статьи, и памфлеты, но, чуть дело доходило до детских стихов, оказывался неумелым ремесленником.
И кастрюля на беГУ
Закричала утюГУ:
"Я беГУ, беГУ, беГУ,
Удержаться не моГУ!"
Как я понимаю теперь, шесть ГУ на четыре строки призваны передать фонетически стремительность и легкость полета. А так как утюги увесистее юрких кастрюль, я оснастил свои строки о них тягучими сверхдактилическими рифмами:
Утюги бегут покрякивают,
Через лужи, через лужи перескакивают.
По-кря-ки-ва-ют, пе-ре-ска-ки-ва-ют — неторопливые протяжные слова с ударением на четвертом слоге от конца. Этим ритмическим рисунком попытался я выразить чугунную тугонодвижность утюгов.
Вот и чайник за кофейником бежит,
Тараторит, тараторит, дребезжит...
Но вот раздались стеклянные, тонко звенящие звуки, вновь вернувшие сказке ее первоначальный напев:
А за ними блюдца, блюдца —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
Вдоль по улице несутся —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
На стаканы — дзынь!- натыкаются,
И стаканы — дзынь!- разбиваются.
Конечно, я нисколько не стремился к такой многообразной и переменчивой ритмике. Но как-то само собой вышло, что, чуть только передо мною пронеслась разная кухонная мелочь, четырехстопный хорей мгновенно преобразился в трехстопный:
А за нею вилки,
Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки
Скачут по дорожке.
Не заботился я и о том, чтобы походка стола, неуклюже, вперевалку бегущего вместе с посудой, была передана другой вариацией ритма, совсем не похожей на ту, какая изображала движение прочих вещей:
Из окошка вывалился стол
И пошел, пошел, пошел, пошел, пошел...
А на нем, а на нем,
Как на лошади верхом,
Самоварище сидит
И товарищам кричит:
"Уходите, бегите, спасайтеся!"
Конечно, таких вариаций стихотворного ритма, изображающих каждый предмет в его музыкальной динамике, не добьешься никакими внешними ухищрениями техники. Но в те часы, когда переживаешь тот нервный подъем, который я пытался описать в очерке о "Мухе-Цокотухе", эта разнообразная звукопись, нарушающая утомительную монотонность поэтической речи, не стоит никакого труда: напротив, обойтись без нее было бы гораздо труднее.