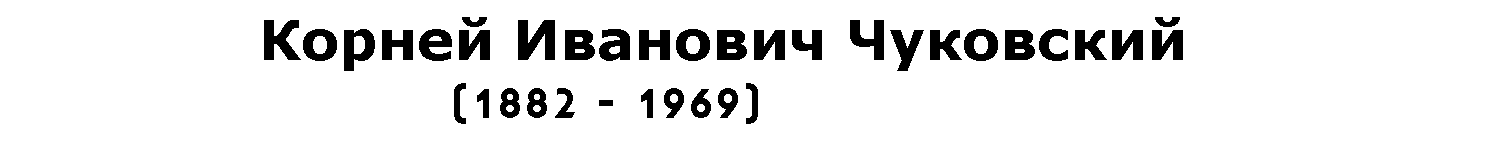
|
японская косметика оптом Информация о доставке. Оптовые поставки косметики и бытовой химии производителей Японии и Южной Кореи в г. Москва и регионы РФ. +7 (499) 340-4115 Косметика, средства гигиены, бытовая химия из.
|
 Прошлым летом я сочинил для моей правнучки, трехлетней Марины, сказку, которая начинается так:
Прошлым летом я сочинил для моей правнучки, трехлетней Марины, сказку, которая начинается так:
Бабушка к буфету, А жаркого нету! "Что ж это такое! Где мое жаркое!"Марина ничего не сказала, ушла к своим куклам, но вскоре я услышал, как она поет им мою сказку:
Бабушка к буфету, А жаркое есть.Очевидно, мое нету не понравилось ей, и она преобразила его в есть.
Для ребенка отвратительны сказки и песни с печальным концом. Живя иллюзией вечного праздника, дети упрямо заменяют печальные концовки наших сказок и песен благополучными, радостными.
Существует невеселая старинная песня о мужике, потерявшем дугу:
Поискал и не нашел, Он заплакал и пошел.Услышав эту песню, Коля Черноус, трех с половиною лет, насупился, весь покраснел, заткнул уши и убежал на балкон. Через минуту он вернулся оттуда веселый и, как бы издеваясь над нами, запел:
Поискал и нашел, Засмеялся и пошел.Заплакал превратилось в засмеялся. Ибо малые дети не терпят, чтобы в тех сведениях о жизни, какие дают им литература, театр и живопись, был хоть намек на окончательную победу несчастья и зла.
Сколько я знаю детей, которые на театральных спектаклях крепко закрывают глаза, чуть только с каким-нибудь любимым героем случится хоть на минуту беда.
В обиходе английских детей есть знаменитая песенка с печальным концом: к какой-то девушке подлетела ворона и начисто откусила ей нос (Snapped off her nose). Можно не сомневаться, что английские дети в течение веков жаждали другой, менее мрачной концовки. Угождая их неосознанным инстинктивным желаниям, кто-то (уже в XIX веке) присочинил к этой горестной песне утешительные строки о том, будто к искалеченной девушке позвали королевского врача, и он так искусно пришил ей откушенный нос, что несчастная опять стала счастливой. После чего дети вполне примирились с отвергнутой песней и перестали чуждаться ее [1].
Это понятно. Ведь счастье для малых детей — норма жизни, естественное состояние души, еще не знающей ни об угрозе неминуемой смерти, ни о мучительных тяготах и томлениях жизни. В возрасте "от двух до пяти" они — самое счастливое племя из всех, какие живут на земле.
Спрашивается: где же серьезным и безрадостным взрослым, "измученным жизнью, коварством надежды", соваться в безоблачно-солнечное царство детей?
Подделаться под ребенка нетрудно, да ведь подделка легко обнаружится, и дети отпрянут от нее, как от фальши. Сколько ни вымучивай из себя бойких и мажорных стишков, их бравурность будет чисто механической, и они никогда не дойдут до трехлетних-пятилетних сердец. Когда-то в своей книге "От двух до пяти" я опубликовал заповеди для детских поэтов, но только теперь догадался, что ко всем этим заповедям следует прибавить еще одну, может быть самую главную: писатель для малых детей непременно должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит.
Таким счастливцем порою ощущал себя я, когда мне случалось писать стихотворные детские сказки.
Конечно, я не могу похвалиться, что счастье — доминанта моей жизни. Бывали и утраты, и обиды, и беды. Но у меня с юности было — да и сейчас остается — одно драгоценное свойство: назло всем передрягам и дрязгам вдруг ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, почувствуешь сильнейший прилив какого-то сумасшедшего счастья. Особенно в такие периоды, когда надлежало бы хныкать и жаловаться, вдруг вскакиваешь с постели с таким безумным ощущением радости, словно ты пятилетний мальчишка, которому подарили свисток.
Не знаю, бывали ли у вас такие беспричинные приливы веселья, а я без них, кажется, пропал бы совсем в иные наиболее тоскливые периоды жизни. Идешь по улице и, бессмысленно радуясь всему, что ты видишь, — вывескам, трамваям, воробьям, — готов расцеловаться с каждым встречным и твердишь из своего любимого Уитмена:
Отныне я не требую счастья, я сам свое счастье.Один такой день мне запомнился особенно ясно — 29 августа 1923 года, душный день в раскаленном, как печь, Петрограде, когда я внезапно на Невском пережил наитие этого необыкновенного чувства и так обрадовался самому факту своего бытия на земле, что готов был выкрикивать вслух строки из того же поэта:
Почему многие, приближаясь ко мне, зажигают в крови моей солнце! Почему, когда они покидают меня, флаги моей радости никнут!Но в тот блаженный и вечно памятный день флаги моей радости нисколько не никли, а, напротив, развевались с каждым шагом все шире, и, чувствуя себя человеком, который может творить чудеса, я не взбежал, а взлетел, как на крыльях, в нашу пустую квартиру на Кирочной (семья моя еще не переехала с дачи) и, схватив какой-то запыленный бумажный клочок и с трудом отыскав карандаш, стал набрасывать строка за строкой (неожиданно для себя самого) веселую поэму о мухиной свадьбе, причем чувствовал себя на этой свадьбе женихом.
Поэму я задумал давно и раз десять принимался за нее, но больше двух строчек не мог сочинить. Выходили вымученные, анемичные, мертворожденные строки, идущие от головы, но не от сердца. А теперь я исписал без малейших усилий весь листок с двух сторон и, не найдя в комнате чистой бумаги, сорвал в коридоре большую полосу отставших обоев и с тем же чувством бездумного счастья писал безоглядно строку за строкой, словно под чью-то диктовку.
Когда же в моей сказке дело дошло до изображения танца, я, стыдно сказать, вскочил с места и стал носиться по коридору из комнаты в кухню, чувствуя большое неудобство, так как трудно и танцевать и писать одновременно.
Очень удивился бы тот, кто, войдя в мою квартиру, увидел бы меня, отца семейства, 42-летнего, седоватого, обремененного многолетним поденным трудом, как я ношусь по квартире в дикой шаманской пляске и выкрикиваю звонкие слова и записываю их на корявой и пыльной полоске содранных со стенки обоев.
В этой сказке два праздника: именины и свадьба. Я всею душою отпраздновал оба. Но чуть только исписал всю бумагу и сочинил последние слова своей сказки, беспамятство счастья мгновенно ушло от меня, и я превратился в безмерно усталого и очень голодного дачного мужа, приехавшего в город для мелких и тягостных дел.
Вряд ли я тогда понимал, что эти внезапные приливы бездумного счастья есть, в сущности, возвращение в детство. Горе тому детскому писателю, кто не умеет хоть на время расстаться со своей взрослостью, выплеснуться из нее, из ее забот и досад, и превратиться в сверстника тех малышей, к кому он адресуется со своими стихами.
Эти возвращения в детство чаще всего были сопряжены у меня с таким редкостным и странным душевным подъемом, который я дерзну обозначить устарелым словцом вдохновение.
Теперь это словцо не в чести. Литературоведы и критики давно уже изгнали его из своего словаря. Вдохновение объявлено чуть ли не мифом, придуманным лукавыми поэтами ради того, чтобы возвеличить свой цех.
Между тем я на собственном опыте убедился, что оно существует. Вдруг ни с того ни с сего все мои писательские интересы и навыки отлетают от меня ко всем чертям, я испытываю сердцебиение ребяческой радости, которая сильнее меня самого, и тороплюсь без оглядки записать "Бармалея", или "Путаницу", или сказку о том,
Как у наших у ворот Чудо-дерево растет. Чудо-чудо-чудо-чудо Расчудесное! Не листочки на нем, Не цветочки на нем, А чулки да башмаки, Словно яблоки!Вот почему, когда я на старости лет перелистываю мои давние сказки, иные из них представляются мне древними памятниками тех приливов внезапного детского счастья, которыми они рождены.
Впрочем, по мнению моих близких друзей, у меня в характере вообще очень много ребяческого. Когда мне исполнилось семьдесят пять лет (о, как давно это было!), Маршак обратился ко мне с задушевным посланием, которое кончалось такими словами:
Пусть пригласительный билет Тебе начислил много лет, Но, поздравляя с годовщиной, Не семь десятков с половиной Тебе я дал бы, друг старинный, Могу я дать тебе — прости!- От двух, примерно, до пяти... Итак, будь счастлив и расти!..Это остроумно, но, к сожалению, неверно. Если бы детская психика была моим всегдашним достоянием, я написал бы не десять сказок, а по крайней мере сто или двести. Увы, приливы ребяческой радости бывают в человеческой жизни нечасто, и длятся они очень недолго. Да и возможно ли полагаться на взлет вдохновения? В сущности, "Муха-Цокотуха" — единственная моя сказка, которую от первой строки до последней я написал сгоряча, в один день, без оглядки, по внушению нахлынувших на меня неожиданно радостных чувств.
Остальные сказки давались мне не так-то легко, хотя всякая из них зародилась во мне в минуты моего возвращения в детство. Но эти минуты бывали так коротки, что дарили мне лишь несколько строк. Остальные приходилось добывать долгим и упрямым трудом, неизменно радостным, но тяжким.
Здесь на смену вдохновению к писателю должна приходить другая, столь же драгоценная сила, без которой ему нельзя обойтись.
Но об этом — на дальнейших страницах.
[1] Речь идет о народной песне "Sing a Song of Sixpence", которая, по словам английских фольклористов Айоны и Питера Опи, была зарегистрирована в печати около 1744 года. Строфа о враче, излечившем безносую девушку, была сочинена около 1866 года. Рендольф Колдекотт в 1880 году дал другую, более лаконичную концовку: "Прилетела пташка Дженни Рен (wren — крапивник) и приклеила его".